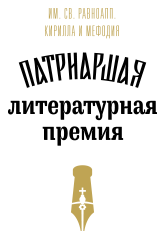Дефолт имени маркиза Астольфа де Кюстина
Публицистика
«Я часто повторяю себе: здесь все нужно разрушить и заново создать народ».
«Вся Россия — та же тюрьма и тюрьма тем более страшная, что она велика и что так трудно достигнуть и перейти ее границы».
«Вообразите полудикий народ, который милитаризовали и вымуштровали, — и вы поймете, в каком положении находится русский народ».
И такие сгустки ненависти — на каждой странице этой по-своему уникальной книги. Кто же пишет? На первый взгляд — революционер, какой-нибудь Герцен или Бакунин, террорист-народоволец или один из фанатиков, делавших революцию 1917 года. Но нет, это пишет добропорядочный французский аристократ, маркиз Астольф де Кюстин, в книге «Николаевская Россия в 1839 году».
При петербургском дворе Кюстина приняли с распростертыми объятиями. Все-таки роялист, чьи отец и дед были казнены на гильотине революционерами-якобинцами. Уж этот-то поймет и оценит великий смысл российского самодержавия! Наивные люди. Они не понимали того, что и монархисты, и революционеры, и демократы Европы мазаны одним миром, одним низменным страхом, одной лакейской и одновременно высокомерной дрожью перед Россией. Что они все — люди Запада. Об этом Кюстин сказал прямо и недвусмысленно. Так же, как немецкие рабочие во время Гитлера были с фашистским Западом, а не с «пролетарской Россией», так же и аристократ Кюстин за сто лет раньше был в одном стане с «революционерами» всех наций. Лишь бы против России. Он даже в любви к декабристам объяснился: «Мы, люди Запада, революционеры и роялисты, видим в русском государственном преступнике невинную жертву абсолютизма». Ну прямо-таки говорил, как Ленин или как Троцкий с Луначарским, а не как французский консерватор и аристократ!
Да если бы только о политике или о государственном или общественном устройстве речь шла в этом памфлете! Нет, тут все на каком-то генетическом, иррациональном, на неземном уровне. Как будто не человек арийской расы и христианин приехал к нам, а какой-нибудь гость из межпланетного пространства, с Марса или Сатурна, существо внечеловеческой, не белковой, а углеродной или просто инфернальной цивилизации.
Его русофобия в книге настолько тотальна, что объемлет все: русскую природу, русскую песню, русскую историографию, русскую литературу, русскую архитектуру, русскую церковь, русскую женщину.
«Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем... Он заимствовал свои краски у новой европейской школы... Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом».
«Мертвое уныние равнины без конца и без края. Ничего грандиозного, ничего величественного».
«Русский народ, говорят, очень музыкален, но до сих пор я еще ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вел в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно, речитатив без ритма...»
«Их внешность (это о русских женщинах. — Ст. К.), рост, все в них лишено малейшей грации», «Не видно было ни одного красивого женского лица», а большинство отличается «исключительным безобразием и отталкивающей нечистоплотностью».
Не будем вспоминать о том, что у многих понимающих толк в красоте людей Запада (Пикассо, Ромен Роллан, Вальтер Шубарт, Фернан Леже, Сальвадор Дали) жены были русскими. Женофобство Кюстина, наверное, будет понятно, если вспомнить, что он был педерастом, как и Дантес с Геккерном (везло же николаевской России на французских аристократов!)
«Все православные церкви похожи одна на другую. Живопись низменно византийского стиля, то есть неестественная, безжизненная и поэтому однообразная».
О Москве: город «без памятников архитектуры, то есть без единого произведения искусства», «Кремль — сердце этого чудовища», «Кремль есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человеконенавистнического», «Кремль, который не удалось взорвать Наполеону»...
Ах, вот где собака зарыта! Как жаль французскому аристократу, что революционер Наполеон не стер с лица земли Россию, что не превратил в прах ее святыни, что не вытряхнул из русских храмов, подобно троцкистским эмиссарам, чудотворное золото и серебро усыпальниц!
«Рака с мощами Сергия ослепляет невероятной пышностью. Она из позолоченного серебра великолепной отделки. Ее осеняет серебряный балдахин... Французам досталась бы здесь хорошая добыча», — плотоядно сожалеет о несбывшихся возможностях маркиз. Внимательно прочитав маркиза де Кюстина, я в свое время предположил, что лермонтовская «Родина» является как бы полемическим предвидением взглядов, изложенных французским маркизом.
В чем поручик и маркиз совершенно враждебны друг другу, так это в отношении к народной жизни, к мистическим пространствам России, к ее природным стихиям, сформировавшим русскую натуру. Все, что Лермонтов любит, вызывает у маркиза ужас, а порой и ненависть, порожденную этим ужасом. Лермонтов чуть ли не буквально теми же словами, что и Кюстин, рисует величие русской жизни, но одухотворяет ее одним словом «люблю», которое в коротком тексте повторяется четыре (!) раза:
Но я люблю — за что, не знаю сам? —
ее степей холодное молчанье,
ее лесов безбрежных колыханье,
разливы рек ее, подобные морям...
Вот это «за что, не знаю сам» — и есть предтеча тютчевского: «умом Россию не понять».
Может быть, я пристрастен, но эти строки представляются мне как бы загодя данным ответом на ужас, испытанный Кюстином перед нашими половодьями, перед безмерностью русской жизни: «От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади».
В России, как считал маркиз, «нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми пространствами, причем почтовый тракт уничтожает поэзию степей, оставляя только мертвое уныние равнины без конца и без края».
Очевидно, что это впечатления путешественника, едущего на перекладных в кибитке или в карете.
Михаил Лермонтов тоже глядит из кареты на русские пустынные равнины и проселки и всматривается в них, «насколько хватает глаз»; но у него рождаются совершенно противоположные чувства:
Проселочным путем люблю скакать в телеге
и, взором медленным пронзая ночи тень,
встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
дрожащие огни печальных деревень.
Маркиз де Кюстин удивляется, глядя на подвыпивших туземцев, веселящихся совсем не так, как французы или немцы: «Напившись, мужики становятся чувствительными и вместо того, что- бы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация!»
Лермонтов тоже не проходит мимо этой хотя и колоритной, но и весьма обычной для русской деревенской жизни картины:
И в праздник вечером росистым
смотреть до полночи готов
на пляску с топотом и свистом
под говор пьяных мужиков.