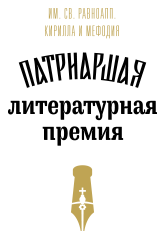Деревенские влюбляются рано
Рассказ
Даже в нашем пропадающем на глазах селе, где влюбляться, по всей видимости, совсем уж некому и не в кого, даже у нас этот закон ходит в ночи, как воришка, с колчаном за спиной и прожигает зазевавшихся до самого сердца.
К началу августа единственная сельская улица приобретает дикий, прямо-таки разбойный вид благодаря громадным, вымахавшим в полтора человечьих роста лопухам. В тумане их с непривычки примешь за ватагу беспризорников, которые сошлись на свою — как это теперь у них принято называть? — хипповку или тусовку, и вот один, ближний к тропе, сейчас выступит вперед и сипло заявит:
— Дядя, дал бы ты лучше закурить... Или кольнуться...
Вся дурь подзаборная — крапива, лебеда, репьи — все норовит впотьмах цапнуть по щеке, опутать веревками ноги, подхихикнуть у тебя за спиной.
И старые сучкастые ветлы, ломаные-переломаные, выныривают из белесой бражки теплого тумана какими-то патлатыми заспанными чудищами и с похмельной тупостью ждут, когда протопаешь, чтобы им в тишине продолжить свое «балдение».
Впрочем, тишина та еще! Весь летний сверчок, расплодившийся до мириада глоток, сверчит бесперебойно, пытаясь пробиться к невидимым в мареве звездам, озвучить их перемиги и любовный прижмур. А то взмыкнет в загоне корова, а то жеребя окликнет мамку, просясь домой, под крышу конюшни. Значит, пастух еще не запрягал.
На противоположном конце села захрипела радиола, и это, говорят, знак, что разнокалиберная наша ребятня опять будет виться вокруг Наташкиных бедер.
Что еще за девка такая вымахала на крапивных щах?
— Ты Наташку-то помнишь, тети Наташину внучку? Какая красавица стала, глаз не оторвать! — услыхал я накануне.
— Это какая же? Та, что у нас на фотографии вместе с мальчишками? Ну, помню ее: нескладеха, смотрит исподлобья, голенастая такая.
— Нет, нет! Теперь совсем ее не узнаешь. Говорят, и бабушка ее в молодости такая ж была. Просто чудо какое-то! Настоящая русская краса.
«Дичаем мы здесь за лето до того, что и Наташка красоткой покажется», — хмыкаю про себя, но любопытство все же разбирает, особенно когда следуют вздохи:
— Эх, такую бы нам невестку. Только ведь не дождется она, пока он из армии придет. Такая в девках не засидится.
Дичаем, дичаем, уже и о свадьбе бредится, а жених-то весь заплатками сверкает, пальцы из кед торчат. Да и сами мы — куда как богатая родня: линялый сарафан да ковбойка при одной пуговице, только и козырей — столичная прописка.
Однако вечером все же топаем на смотрины — как бы мимоходом.
Но мимо пройти, право, нету сил. Вот оно: в шевелении сумерек на луговинке перед старой темной избой вкрадчиво проплывает светлое платьице, слишком тесное и короткое, чтобы делать в нем резкие движения; и над платьем, там, где должно быть лицо, чуть колеблется шаровая молния.
— Наташа, ты ли это?.. Говорят, тебя не узнать теперь. И точно.
— Здравствуйте, — говорит она тихим грудным голосом, и потупляет сияющие глаза в землю, и отводит прядь за ушко, и дышит полуоткрытым ртом после прерванной игры. И, кажется, слышу, как шепчет кровь на ее вспыхнувших скулах: «Это я... это я... это я... Мне приятно, что вы пришли».
— С братом приехала?
— Да. Папа нас привез.
Ну, будь я ее отцом, я Наташу тоже далеко с глаз не отпускал бы. Но я ей никто, так, деревенский знакомый дядя, и мне вовсе неприлично пялиться долго на это смущенное собственной неотразимостью существо. Успеваю лишь мельком разглядеть воистину сногсшибательные перемены, прямо-таки чудесное превращение вчерашней неловкой отроковицы в деву-женщину, которая сама еще ошеломлена этим новым звоном собственной крови. И вот она передвигается вкрадчиво, чуть замедленно, с милосердно-виноватой улыбкой, стараясь не задеть никого из деревенских простаков.
По-настоящему она ушибет кого-нибудь другого. И очень даже скоро. Уж это точно. Вот из-за таких во все времена стреляются офицеры, просаживают состояния купчики, томятся бессонницей угрюмые жены в восточных гаремах, бессильно стонут старики, запутавшись в пустых, постылых простынях.
А наша-то мелюзга! Хохочет, визжит, с ума совсем посходили. Особенно же один, самый рослый и ловкий из парней, как он, изображая раненого индейского вождя, картинно, со всего маху, падает грудью в траву, как борется с невидимым врагом в бурьяне, как, мелькая заплатами на джинсах, вскакивает снова на ноги с победным горловым звуком и тут же рушится на колени — почти у ее ног, но вроде бы и не замечая ее совсем, — как целится в кого-то, но сам вдруг валится замертво, теперь уже навеки... И все со смехом кидаются к нему, пытаются поднять, волочат по траве тело героя с задравшейся рубашкой и, конечно, приволакивают именно к ее босоножкам, к воркующему ручью ее смеха, потому что и самому несмышленому из них ясно: герой погиб из-за нее, из-за этого божественно круглого лица, из-за этих невозмутимо прекрасных бровей и ресниц, из-за щекочущей пряди, которую она сдувает с высокого лба, из-за этого ситцевого платьица, благоухающего резедой и козьим потом девичества, из-за полненьких загорелых ее коленок, на которые никогда уже, никогда не положит он бережную, чуть дрожащую руку.
— Ну, пойдем, — говорю я тебе. — Пойдем до леса, что ли, и обратно.
— Нет, скажи, ты разглядел ее? Это чудо как похорошела!
— Да она через полгода будет замужем. Это как пить дать. Сколько ей теперь?
— Шестнадцать.
— Тут все готово. Жаль только, заграбастает какой-нибудь чурка, будет ревновать, бить, запирать дома.
А про себя думаю: «Откуда вдруг берется красота? Какое такое семечко сидело до поры в нескладном подростке и однажды напряглось изо всех сил, плоскую деревянную дощечку превратило в узкую и гибкую талию, вздыбило и округлило груди, налило плотью бедра, неуклюжее шарканье по земле обернуло в змеиный рисунок танцующей походки, распрямило нахмуренный лоб, толстой китайской кистью навело брови на месте каких-то едва различимых кустиков, а бессмысленный взгляд наполнило теплой влажной жутью, на дне которой всяк волен прочитать свое: надменность, доброту, ум, колдовство, застенчивость, покой, похоть, жажду материнства; или прочитать все вместе сразу...»
Когда мы повернули от леса назад, радиола уже не хрипела, другая музыка сменила ее и надвигалась на нас в тумане, напитанном бальзамическим духом тысячелистника и пижмы. Это на балалаечке выбренькивал «страдания» наш младший, и целый хор старательно и нестройно горланил:
Тученька затучила,
Пока я сено кучила.
Кучила я, кучила,
По милому соскучила.
Тут и колесный скрип прорезался, а через полминуты вынырнула перед нами из клочьев ваты пастушья телега, вся облепленная поющими седоками. За их спинами умиленно бормотал что-то, развалясь на охапках сена, дядя Миша, всегда веселый к ночи пастух.
— Вы что же, до самого Нестерова собрались? — окликнул я ватагу.
— Не-е-е... Мы только до лесу. А там дядь Мишу разбудим.
— И вожжи к рукам примотаем, — добавил кто-то под общий хохот.
— Д-вай... М-но-о! — нечленораздельно подтвердил пастух. Его краткая речь вызвала очередной приступ смеха, в котором различили мы и Наташин воркующий ручеек.
Только тронулись они, тут же грянули другую:
По Муромской дорожке
Стояли три сосны.
Прощался парень с девушкой
До будущей весны...
Но у леса, похоже, передумали будить пастуха, развернули телегу назад, на село.
...Он клялся и божился
Одну меня любить,
На дальней на сторонушке
Меня не позабыть.
Когда проезжали мимо нас, туман над их головами распластался на полосы, и, как желтая луковица из слоистой шелухи, явилась наверху луна, еще слегка приплюснутая с левого бока. Следом за телегой бойко прыгал золотохвостый гнедой жеребенок. Он тоже, по всему видать, наслаждался возможностью подольше побыть рядом с молодежью.
Гуляки подались на село, к поскотине, но и там не стали тревожить дядю Мишу. Вторично развернувшись, взбодрили кобылку кнутом и теперь уже почти лихо, с древним разбойным посвистом, под тарахтенье колес, понеслись к озаренному луной лесу.
Туман отступал на глазах, прячась за стволы ветел, за чащобы репейника. Деревня проявлялась из белесой мути, как на фотоснимке. И тут я вспомнил, наконец ту старую, еще дореволюционного времени, фотографию, на которой почти все, сегодня увиденное, уже было однажды.
Там тоже была деревенская улица, может, в предвечерний час, когда сумерки начинают заплетать ветви церковных берез и девичьи кудри; и ватага крестьянской ребятни, как будто запыхавшейся от только что прерванной игры в лапту; с левого, кажется, боку стояла замужняя средних лет крестьянка с коромыслом на плече... точно, с коромыслом и ведром, потому что там еще был один смешной момент: прямо за ведром стоял навытяжку какой-то карапуз, и это самое ведро, нахально закрыв все его лицо, помешало мальцу увековечиться; тут был, конечно, недогляд фотографа, но недогляд вполне извинительный, потому что фотограф глазел не на тетку с ведром и не на мальца, а на нее, на другую, к которой и лепилась вся мелюзга.
Она была обворожительно красива в своем старинном рязанском сарафане с вышитым передником, с высокой девической грудью, со счастливой, лукаво-цыганистой полуулыбкой на губах, с чуть хмельным взором. Она была, мне кажется, совсем как наша Наташа, разве лишь немного повыше ростом. Или лебяжья шея и подол до пят придавали ей царственную стать?.. Из-за таких, как она, может быть, целые села ходили друг на друга врукопашную. Из-за таких хмурые боевые генералы сворачивали с казенных своих маршрутов на сто верст в сторону. Такая красота одним коротким ободряющим взглядом могла превратить дурашливого деревенского подростка в гения своей земли.
...А он, кстати, и стоял на том снимке рядом с ней. Стоял, еще не осознавая вполне, что такое особое она в нем разворошила своим хмелевым взглядом. Чуть пониже ее ростом, курносый, маленько лопоухий, в кепке, надвинутой ухарски прямо на глаза. Мальчик Сережа Есенин.
Фотография же пришла мне на память именно в ту минуту, когда деревня проявилась из мглы и когда, подойдя к своей избе, мы невольно остановились: темная дранка старой крыши исходила последним паром и, чуть колеблясь в воздухе, прямо-таки мерцала живым загадочным серебром... «От луны свет большой прям на нашу крышу».
— Вот оно, послушай, — взял я тебя за руку. — «От луны свет большой прям на нашу крышу»... Так только влюбленный мог написать.
И в темных сенях, глянув на фронтон, исполосованный сияющими щелями, не удержался и еще раз продекламировал, почти пропел:
— Ат луны-ы свет бальшо-ой... прям на на-ашу кры-ышу...
Через год или два мы узнали, что Наташа попала в автомобильную катастрофу, и ее сильно помяло. Но отлежалась в больнице, поправилась и вскоре вышла замуж. За офицера.